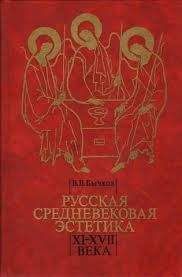Из актрис прежде всего приходит на ум Мария Николаевна Ермолова, образ которой уже на склоне лет запечатлел Серов, когда красота и женское обаяние сменились, как и сказать иначе, гражданственностью и величием высокой личности. Или Вера Федоровна Комиссаржевская, кумир молодых поколений?
Или Мария Федоровна Андреева, по мужу Желябужская, генеральша, увлекавшаяся театром и игрой на любительской сцене, и взошедшая вместе со Станиславским на профессиональную сцену Московского Общедоступного Художественного Театра и в то же время, неведомо ни для кого, словно и для самой себя, вступившая на путь профессионального революционера, что выйдет наружу в дни событий первой русской революции в Москве в декабре 1905 года.
Ее красоту и игру отмечал Лев Николаевич Толстой, да в пору, когда он выступил против искусства. Она была самая красивая из актрис МХТа, по сути, ведущая, но события революции отразились на ее взаимоотношениях со Станиславским, который не понимал, как фойе театра можно превращать в лазарет для раненых (в ходе вооруженного восстания), да актрисе, вместе с Максимом Горьким, с которым она связала свою судьбу, необходимо было покинуть Москву, а затем и Россию.
Эпоха рубежа столетий богата исключительными женщинами. Ныне на слуху Николай Гумилев; его именуют «поэт и воин», на нем отметина великой трагической эпохи, но, по правде, какой он поэт, скорее стихотворец, как и воин (и путешественник) скорее на ребяческом уровне. Так и с женщинами он поступал; поэзия высокой женственности и любви оказывалась для него недосягаемой, и он отступал, бросаясь в случайные авантюры.
Я отнюдь не порицаю его, просто таков он был. Но его выделяют из сонма поэтов Серебряного века две женщины - Анна Ахматова и Лариса Рейснер. Последняя была по складу характера и таланту под стать Гумилеву, ее тоже выделила революция, вознесла, поэтому ныне на нее всячески клевещут, как восхваляют «поэта и воина». О красоте Ларисы Рейснер сохранились восторженные отзывы; правда, фотографии не дают соответствующего представления.
Об Анне Ахматовой ныне много пишут, создают изваяния в виде образа мученицы, но это вне ее лирики и ее судьбы как поэта, пик которой приходится на 1913 год, как она сама невольно отмечает. Гениальность и красота у женщины, видимо, тесно взаимосвязаны; как вянет красота, так гаснет гениальность. Но пора высшего взлета была. Для женщины, особенно поэта, помимо красоты, важна в высшей степени любовь.
Для Ахматовой, как и античной Сафо, любовь - сосредоточие жизни, красоты и творчества, любовь - все. Но где взять мужчин, чтоб хоть один из них выступил сосредоточием всей жизни и мироздания в целом? Ни Гумилев, ни Модильяни, ни другие не потянули, и трагизм этого состояния Анна Ахматова пережила в пике ее молодости, пропела в стихах ее первых книжек столь обнаженно и ярко, с предчувствием конца, что вся дальнейшая жизнь стала воспоминанием, к чему она напряженно по ночам долгие годы прислушивалась в «Поэме без героя».
«Мама одевалась просто, она не любила «тряпок», как другие дамы, и удивлялась, когда ее приятельницы тратили столько времени на туалеты. У мамы было одно парадное платье темно-красного бархата. Когда она надевала это платье, мы знали, что это торжественный случай», - это из воспоминаний Александры Коллонтай, урожденной Домонтович.
«Отец рассказывал, что если кто-либо из рода Домонтович приезжал в псковский монастырь, то монахи звонили в его честь во все колокола, и я в детстве очень хотела попасть в Псков, чтобы в мою честь звонили колокола». (Там хранились мощь святого Довмонта и его победительный меч. Князь Довмонт Псковский (XIII век), принявший монашество, был признан церковью святым Тимофеем Псковским.) Между тем один из дедов Шуры Домонтович был финн, простой крестьянин, босиком пришедший в Петербург и сколотивший себе состояние на поставках леса. Мама напоминала ей: «Твой дедушка был простой крестьянин... Ты этого никогда не забывай» (так она учила «с уважением относиться к прислуге»)
«Когда я говорю о 80-х годах, я невольно вспоминаю большую гостиную в квартире родителей. Три высоких окна, между ними зеркала, а на их подставках тяжелые бронзовые канделябры. Мебель голубого плюща, тяжелая, добротная. В углу изразцовая печь. Налево от гостиной кабинет отца, направо - столовая...»
«Я любила учебу и очень хотела с успехом сдать экзамены. У меня было радостное чувство. Вот я, Шура Домонтович, стою на пороге настоящей жизни. Еще несколько шагов, и я буду взрослая молодая девушка...» (Аттестат зрелости даст ей возможность стать учительницей, и она мечтала уехать «в глухую деревню, далеко от Петербурга, далеко от родных и друзей», просвещать крестьянство, «как героиня романов тех годов». Можно подумать, Шура Домонтович росла в советское время.
Это тот же портрет, что «Девушка, освещенная солнцем», или «Девочка с персиками»... Какое особенное время! Серов уловил самый дух того времени и юности. Но Шура Домонтович вскоре вышла замуж, откуда у нее фамилия Коллонтай. При крещении она была записана случайно мальчиком, что выяснилось, когда выходила замуж. И все же в этом анекдоте - как ни странно! - был какой-то смысл. Коллонтай - женственно-прекрасная, все же в чем-то имела мужской нрав; уж совсем точно, Коллонтай - это лорд Байрон в юбке, и характер, и судьба - одни и те же (не буквально, конечно; о характере Байрона должно судить по его письмам и дневникам, а не по легенде.)
Неудивительно, что Коллонтай ушла в революцию, при этом она активно выступала в революционном и женском движении не только в России, но и в странах Европы. А после Октябрьской революции она стала послом Советского Союза, владея языками, обладая умом и обаянием женской красоты. Ее называют Валькирией революции, ныне много на нее клевещут, но она сотворила себя, свою личность в полном соответствии с великой эпохой.
Несомненно здесь следует вспомнить и о княгине Зинаиде Николаевне Юсуповой, образ которой запечатлел Серов с восхищением, или о другой Зинаиде Николаевне, поэтессе Гиппиус, с ее красотой, талантом и с сознанием, что она родилась мужчиной, только с женским телом, или о Зинаиде Евгеньевне Серебряковой, племяннице Александра Бенуа, которая слегка выправила в условиях распада форм искусства искания и достижения мирискусников, воссоздав классическую традицию, с ее обрашением к натуре, вплоть до обнаженного женского тела, и к детству и юности, к лучезарному цвету жизни, вопреки скудным условиям существования в годы войн и революций.
В 1924 году Серебрякова уехала в Париж, оставив в России своих четверых детей, думала ненадолго, думала подзаработать там, но ничего из этого не выходило, она продолжала работать плодотворно, затем двое детей к ней приехали, затем началась война, - для нее путь в Россию никогда не был закрыт, но она умерла на чужбине. Если всего этого не знать, можно подумать, Зинаида Серебрякова не покидала Россию, разве только для поездки в Африку, ее живопись в большей мере, чем кого-либо из художников ее времени, предстает как советское искусство - с сельскими видами и крестьянами (еще до революции), с его достоверностью без всякого излома и с доверием к миру детей и театра.
Из Парижа она писала дочери Татьяне, начинающей художнице: «Не падай духом и рисуй, моя любимая, как можешь, не думай ни о чем, а лишь бы быть ближе к тому, что видишь. Если не будет «мастерства», а просто, даже «наивно», это все равно ценно... а потом, кто знает, когда-нибудь «придет» и «мастерство»!
К тому же, у кого оно сейчас есть? Если сравнивать настоящее время, беспомощное (во всем) в искусстве, с прежними веками, то ведь все никуда не годится, а все-таки мы продолжаем рисовать...» Как видим, Серебрякова противостояла всевозможным изыскам модернизма вполне в русле развития советского искусства, и ныне мы видим в ее наивно-свежей и чистой живописи начало и венец русского искусства XX века.
Ее искусство серьезно, весело и красочно, как комедии 30-50-х годов. Ее живопись театральна без изломов мирискусников, близка к природе, наивна и свежа, как весна и юность, и блещет красотой, в чем я узнаю свое мировосприятие и мироощущение, присущее советской эпохе, вопреки войне и скудным условиям быта, когда природа и человеческая красота во всех ее проявлениях особенно ценны, то есть бесценны, как сама жизнь.
Как в живописи Серебряковой, лучезарно и пленительно сияла классическая традиция в балете новой эпохи, романтической по своим устремлениям, - Галина Уланова, Наталья Дудинская, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, - если вдуматься, здесь та же эстетика, наивно-трепетная, драматическая и песенно-веселая, что и в фильмах 30-80-х годов XX века, в полном соответствии с умонастроением советской эпохи. Это самое драгоценное и вечное, что мы узнаем в героинях Любови Орловой, Марины Ладыниной, Целиковской, всех мне не назвать, в ряду которых я вижу и моих учительниц, и задушевную красоту русских женщин, как с портретов Рокотова, что я вынес из жизни и поныне узнаю как родные и давно знакомые лица при случайных встречах на берегах Невы.
![Пётр Киле - Эстетика Ренессанса [Статьи и эссе]](https://cdn.my-library.info/books/216275/216275.jpg)